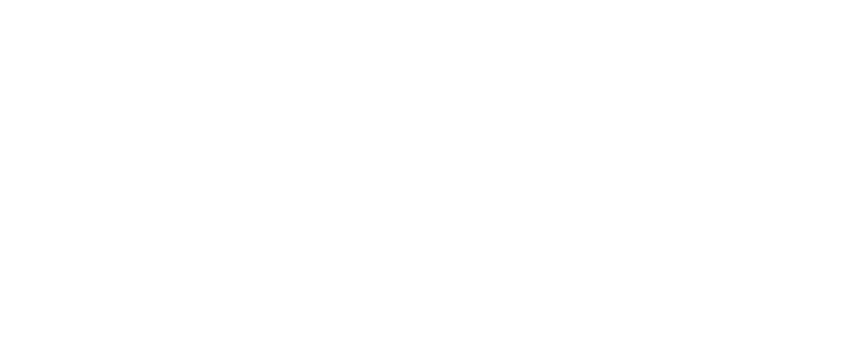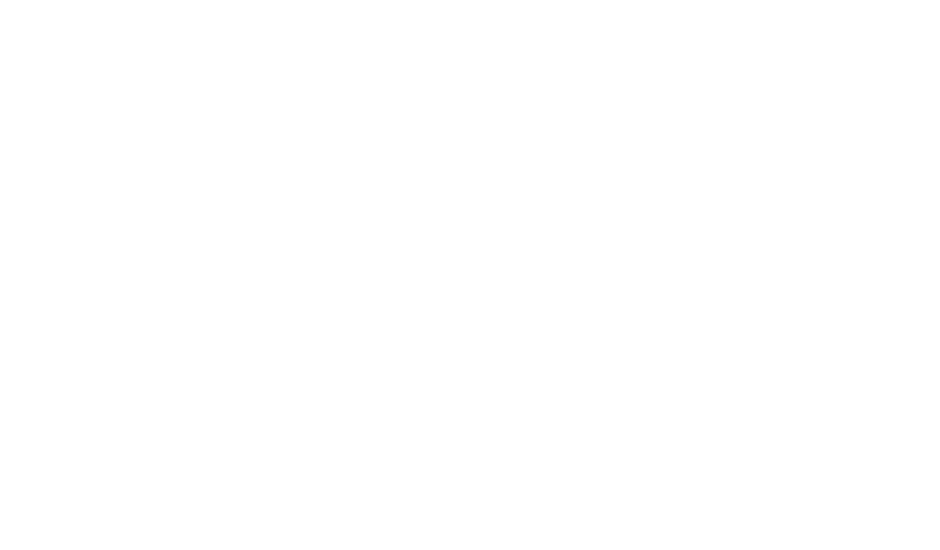
Дом под соснами
Дом.
Дачный дом обитал в Салтыкове на краю улицы «13-я линия». Сразу за забором начиналась настоящая «Шишкинская» поляна. Муравчатая травка с островками зверобоя и тысячелистника, розовые прогретые пыльные тропинки и бесконечные, бескрайние сосны до самого горизонта и до самого неба. На сосны мы смотрели прямо с террасы, как мы обычно смотрим на море с пирса, и это никогда не было скучно. Напротив крылечка росла кустистая рябина. На углу дома огромная черёмуха, и я помню ее как майское дерево в белоснежных медовых цветочных охапках. Вдоль уличного забора отец посадил клены, они быстро отрастали, задевали низкие провода, и каждый год приходилось их сильно обрезать. Куст сирени, пара кустов жасмина, несколько старых яблонь в саду, рядок «ананасного» крыжовника, делянка культурной малины и заросли некультурной через забор с соседями. Огород, на котором все росло обильно, незатратно и как бы само собой.

И тогда событиями становятся простые вещи..."

И тогда событиями становятся простые вещи - чашка чая, потрескавшаяся краска на старом подоконнике, тиканье будильника, бусины ежевики в керамической миске.
Знойный день сменяется прохладным вечером, тени становятся уютнее и глубже, а звуки и запахи ярче и отчётливей. И все это уже случалось бесконечное количество раз от сотворения мира. Летний день уходил в тихий вечер, а вечер погружался в ночь. Так же пахли флоксы и шумели сосны, так же облака таяли в небе, и августовские паутинки неслись, подхваченные теплым ветром.
События, вовлекая в свой ритм, диктуют свою волю и скорость, вытаскивают во вне, на внешний радиус.
Бессобытийность позволяет оставаться в круге внутреннем, близком к центру. Там, где время становится безвременьем. А безвременье вечностью.

И тогда событиями становятся простые вещи - чашка чая, потрескавшаяся краска на старом подоконнике, тиканье будильника, бусины ежевики в керамической миске.
Знойный день сменяется прохладным вечером, тени становятся уютнее и глубже, а звуки и запахи ярче и отчётливей. И все это уже случалось бесконечное количество раз от сотворения мира. Летний день уходил в тихий вечер, а вечер погружался в ночь. Так же пахли флоксы и шумели сосны, так же облака таяли в небе, и августовские паутинки неслись, подхваченные теплым ветром.
События, вовлекая в свой ритм, диктуют свою волю и скорость, вытаскивают во вне, на внешний радиус.
Бессобытийность позволяет оставаться в круге внутреннем, близком к центру. Там, где время становится безвременьем. А безвременье вечностью.
Дачные этюды
Она любила чашки с ручной росписью. Странная прихоть. Но она говорила, что руки мастера делают вещь живой.
Вещи вообще имели значение. Но не сами по себе, а как отражение её самой.
Через вещи, которыми она окружала себя, она пыталась что-то рассказать этому миру. Что-то о себе. В противном случае говорить о себе она не умела, не хотела и считала даже чем-то неудобным.
Это была её любимая чашка. Тонкостенного фарфора, объёмистая, с нарисованными цветами на тёмном фоне, по примеру жостовской росписи. Когда-то был золотой ободок, но он стерся и только угадывался кое-где на бортиках. Да и сама роспись вытерлась и стала более сдержанной и даже отчасти благородной.
Чашка была большой, но в меру. Уютными округлыми боками ложилась в руку. Её можно было обнимать двумя ладонями. И было от этого тепло.
И ладоням, и душе. К чашке прилагалось блюдце. Такое же разрисованное. Это была пара. И это добавляло ценности.
И цельности.
Она была довольно старая, эта чашка, из времени советских виниловых пластинок и бардовских песен.
Или раньше.
Откуда она появилась в доме, никто не знал. Но она была совершенно целая. Без сколов и трещин.
Как и должно быть.
Чашка уверенно стояла на своём прочном основании, не боясь перевернуться, даже будучи случайно задетой. И чай в неё можно было наливать хоть полную, хоть половину. И долго смотреть на теплый парок, поднимающийся над широким горлышком.
Это была очень удобная чашка.
С ней было хорошо бездельничать и глядеть в окно. И была прошлым летом неделя, когда забытая чашка простояла в саду, и наполнилась дождём и сосновыми иголками.
Но самое главное, она была такая одна. Абсолютно, космически одна-единственная и оттого такая одинокая.

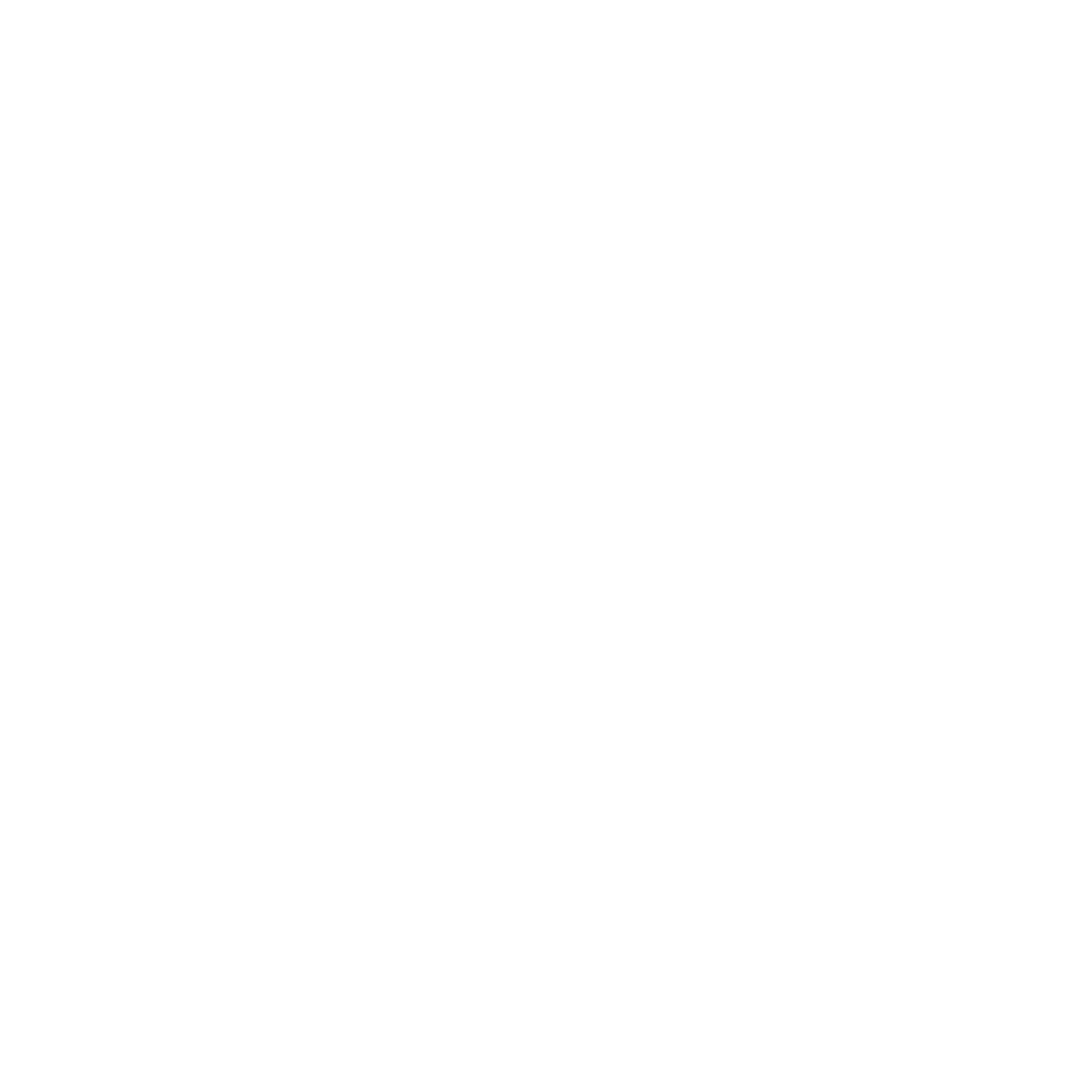
ПРО Стиль Жизни | PROlifestyle © Все права защищены.